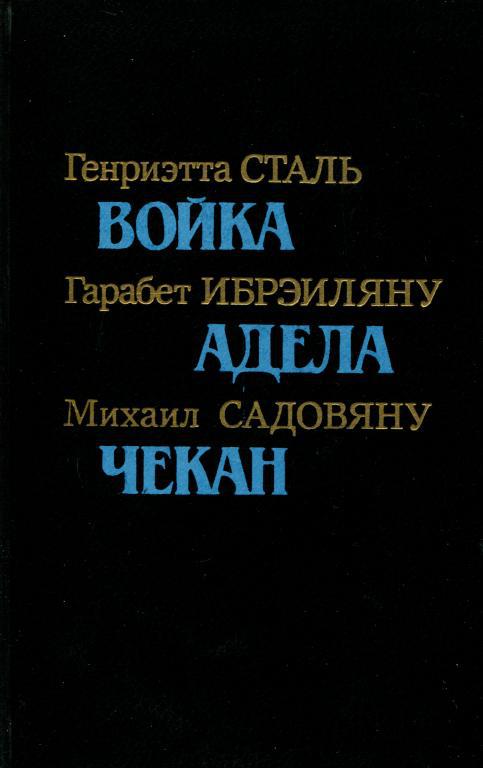оставалось немного зеленоватой воды, да и все во дворе было печально и пусто. Я поняла, что Войка ушла из дому. Грусть покинутого дома охватила меня. Я вышла на дорогу посмотреть, не идет ли Мария. Маленькие дети играли, сидя в мягкой и теплой дорожной пыли. Я крикнула одному из них:
— Эй, не знаешь, где Мария?
— Кото’ая?
— Моя Мария.
Мальчик отрицательно покачал головой и продолжал копаться в пыли. Сейчас он, стоя, пригоршнями насыпал пыль в без стеснения задранный подол рубашки, а потом ссыпал ее частым облаком вниз. Он казался сосредоточенным и обо мне, видимо, тут же позабыл.
— Георгицэ, да брось ты свою пыль, ступай к мамке, скажи, чтобы пришла ко мне.
Он еще раз наполнил подол и высыпал пыль, потом, не отвечая, побежал к себе во двор.
Я направилась к дому. Когда я уже собиралась войти внутрь, на пороге появилась Флоаря, невестка Войки, худенькая светловолосая женщина, обожженная солнцем. Она пришла через огород. Об этой женщине я знала от Войки, что она нечиста на руку. Я спросила:
— Ты к кому?
— Да я к дяде Думитру.
— А разве ты не знаешь, что он в поле?
— Знаю, он там вместе с братом, мужем моим. Но я думала, что он пришел обедать.
— А что тебе от него нужно?
— Да… так…
Я пристально вглядывалась, пытаясь понять, нет ли у нее за пазухой или под фартуком какой-нибудь добычи, но ничего не было видно. Она ушла.
Вернулась Мария, которая ходила к соседке за молоком.
— Барышня!.. Войка-то этой ночью сбежала и одежду дяди Думитру с собой унесла, он ее теперь ругает на чем свет стоит. Говорит, пойдет к ней вместе с жандармом.
Мария ушла в дом. Я осталась одна. Было жарко, сухо, пусто. Я чувствовала, что надвигаются печальные события.
С Войкой я познакомилась несколько лет тому назад в тяжелые и смутные военные времена. Она бежала из дому, испугавшись боев, которые шли возле ее деревни, стоявшей на дороге в Коману. Бежала в телеге, запряженной волами и до отказа нагруженной зерном, кукурузной мукой и одеждой. Остановилась она у нас.
Это была женщина лет тридцати с большими и прекрасными карими глазами. Попав к нам в дом, она позабыла на время обо всех тяготах и невзгодах и в изумлении разглядывала зеркала, шкафы, столы, потом не удержалась и потрогала рукой паркет, чтобы наяву ощутить то, что видели ее глаза, чему трудно было поверить, и спросила: «А это что?»
Не слыша ответа, нахмурилась и принялась испуганно озираться, словно ища, куда бы ей скрыться, потом, не останавливаясь, на одном дыхании, проговорила:
— Огонь попадает прямо во двор, земля вздымается… Этой ночью они войдут в деревню…
— А на кого ты дом-то оставила?
— Ни на кого да и двери не заперла. Хоть взламывать не будут, коли захватят дом.
— В деревне никого не осталось?
— Как не осталось, остались…
Войка стояла посреди комнаты, усталая, несчастная, и в ее испуганных глазах словно отражался пустой дом, изрытый взрывами огород, поваленные деревья, незнакомые дороги, заботы…
На следующий день рано утром ко мне в комнату вошла служанка и сказала:
— Барышня, вчерашняя женщина собралась уезжать и плачет, что я ее не пускаю. Что делать? Разбудить барыню?
— Лучше приведи ее сюда.
Пришла Войка. Остановилась передо мной. Глаза у нее опухли, покраснели от слез и бессонной ночи. Возле нее стояла служанка, как часовой рядом с пленником.
Я спросила:
— Куда ты собралась ехать?
— Поеду, барышня, поеду, не то отберут окаянные все, что у меня есть.
Потом, внезапно решившись:
— Я все, что привезла, оставлю. И волов оставлю, их есть чем кормить. Как вернусь, возьму их, а пока пойду пешком. К полудню дома буду, погляжу еще разок на свое добро, а к вечеру, когда стемнеет, к вам ворочусь.
Лицо у нее осунулось, было неумытым и невыспавшимся. Я спросила ее участливо, как больного ребенка:
— Зачем тебе идти, ведь устала, да и путь далекий?
Видя, что она собирается поступить по-своему, я добавила:
— Ведь ты все равно ничем не поможешь. А по дороге тебя болгары схватят.
Она ответила просто:
— Это уж как бог даст, но не пойти я не могу.
— Тогда зачем было уезжать?
— Так ведь волов и вещи спасала. А теперь посмотрим, что можно сделать с остальным добром. Вот что я вам скажу, барышня. Зерно и бобы я во дворе закопала. Корова и свиньи не кормлены. Да и невестки у меня, накажи их господи, — воровки, каких свет не видывал, — все, что есть в доме, унесут, хуже немцев. Что я тогда делать стану? Коли я страдаю да мучаюсь, так хотя бы не зря. А то ведь как вернется хозяин-то мой да увидит пустой двор, так разве станет он для дома работать?
— А где он?
— В Молдове.
— Ну, тогда ступай. К вечеру-то вернешься? Возьми еды на дорогу.
— Не возьму, там у меня куры яйца снесли. Будьте здоровы!
— Иди, Войка.
Поздно вечером, когда совсем стемнело и мы все беспокоились о ней, Войка позвонила у двери. Одежда на ней была порвана, а лучистые глаза глядели, словно никого не узнавая. Я кинулась к ней:
— Что с тобой?
Она коротко ответила: «Ничего» и не сдвинулась с места. Она держала в руках, видимо, совершенно бессознательно, нескольких кур. Перья у них были в грязи, пух висел клочьями. Они устало таращили глаза.
Служанка, которая открыла ей дверь, сказала:
— Иди, ложись спать!
Войка заморгала глазами, словно только что проснулась, и, протягивая куриц служанке, но глядя на маму, сказала:
— Это вам, барыня.
*
История, которую на следующий день поведала нам Войка, была еще печальнее, чем я думала. На деревенском своем наречии, просто и выразительно, Войка рассказывала, как бродила почти до самого обеда, прежде чем попала в деревню; как пряталась в кустах; как нашла свой пустой дом, кур, свиней, корову, которые разбежались по двору кто куда, перепуганные взрывами снарядов; как, спрятавшись в доме, следила, кто приходит воровать, чтобы знать, кого можно будет потом обвинить; как болела у нее душа при виде соседей, которые уносили из дому разные вещи: мотыги, кадки, веревки, — и как ей приходилось молчать, чтобы не выдать себя; как в доме не нашлось никакой еды, кроме холодной мамалыги; как вечером она пустилась в путь вместе с собакой, которая увязалась за ней, и как шла в кромешной темноте. Дойдя до городской заставы, она со страху спряталась в канаве и с полчаса сидела там, держа собаку